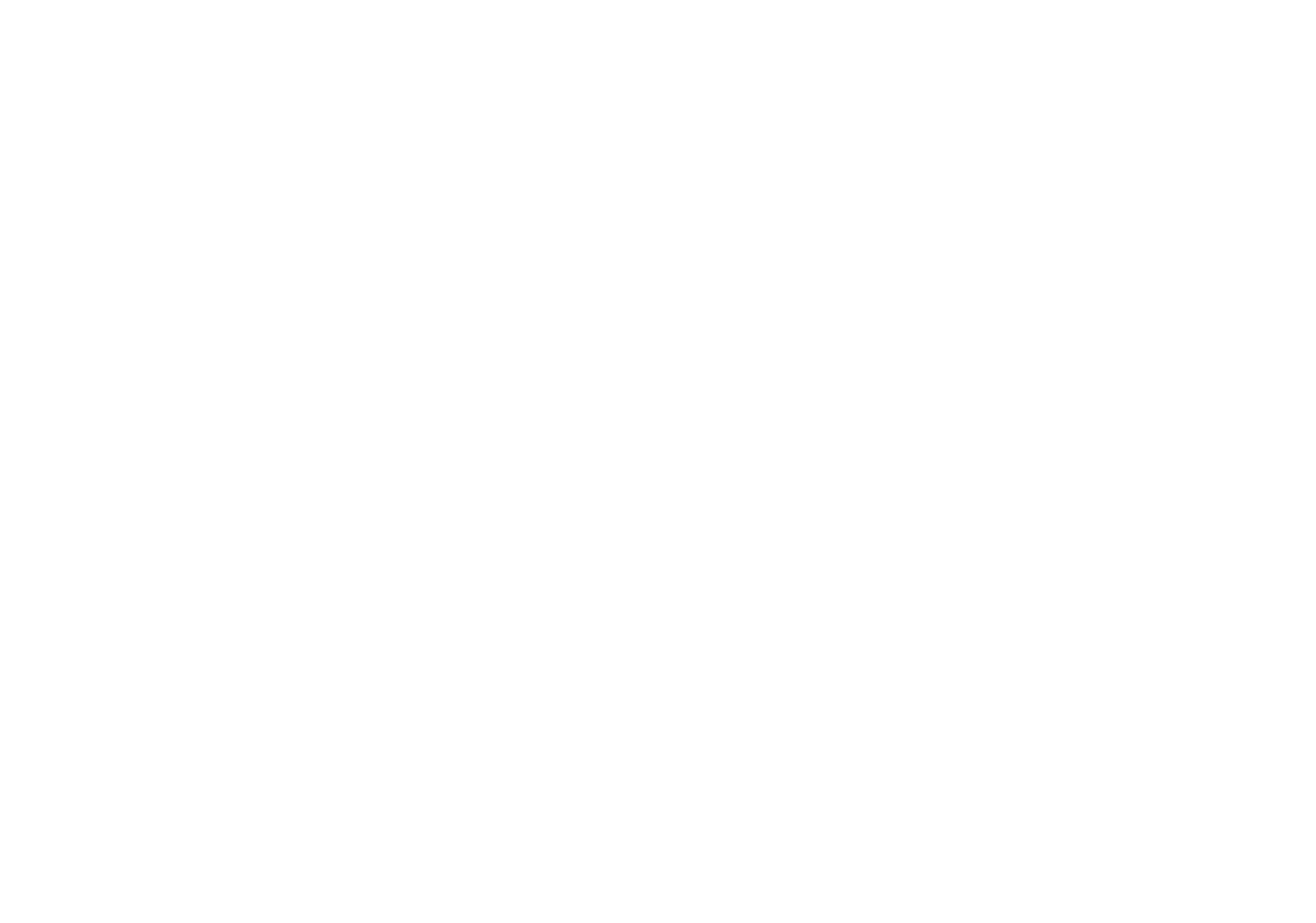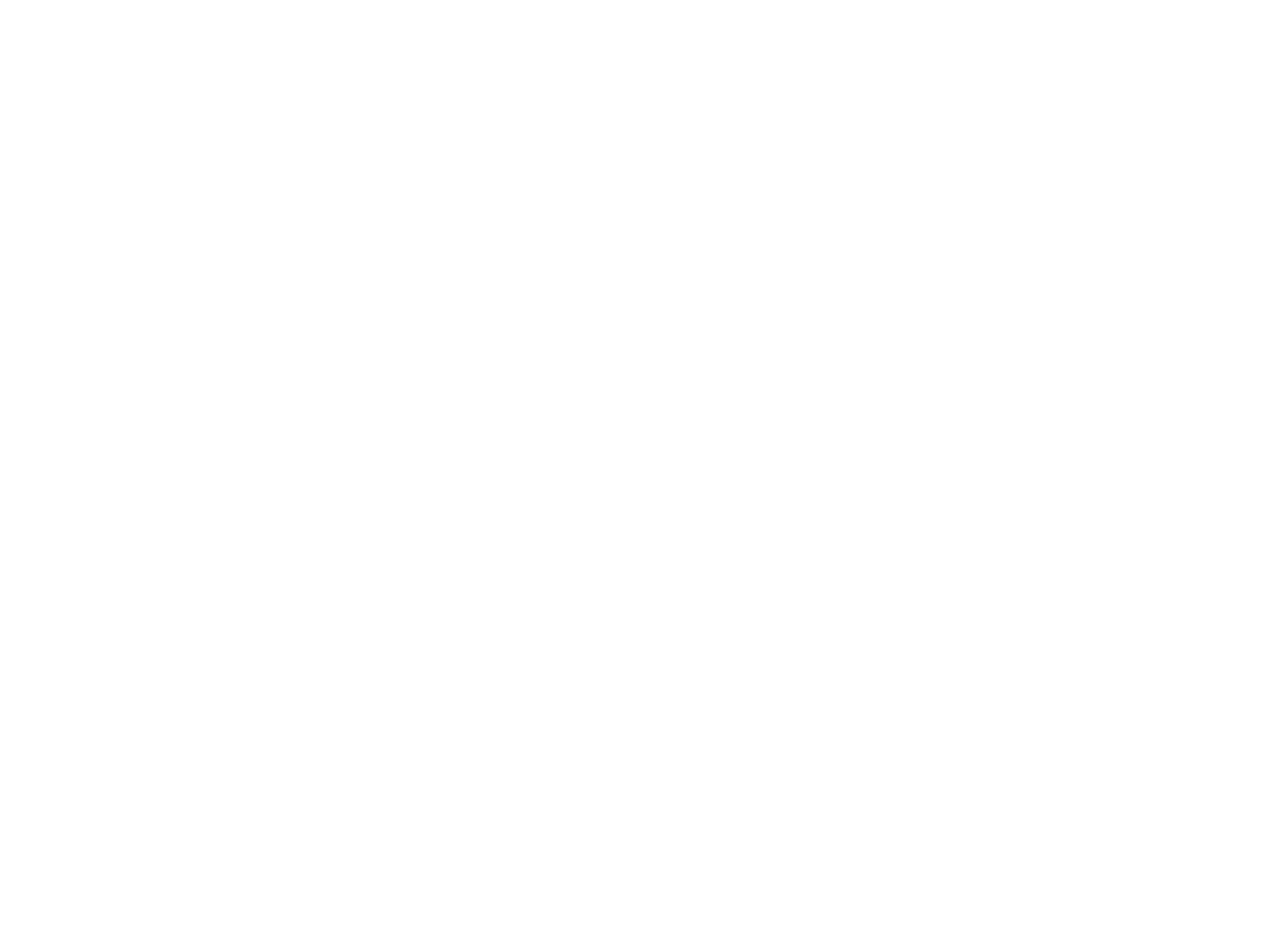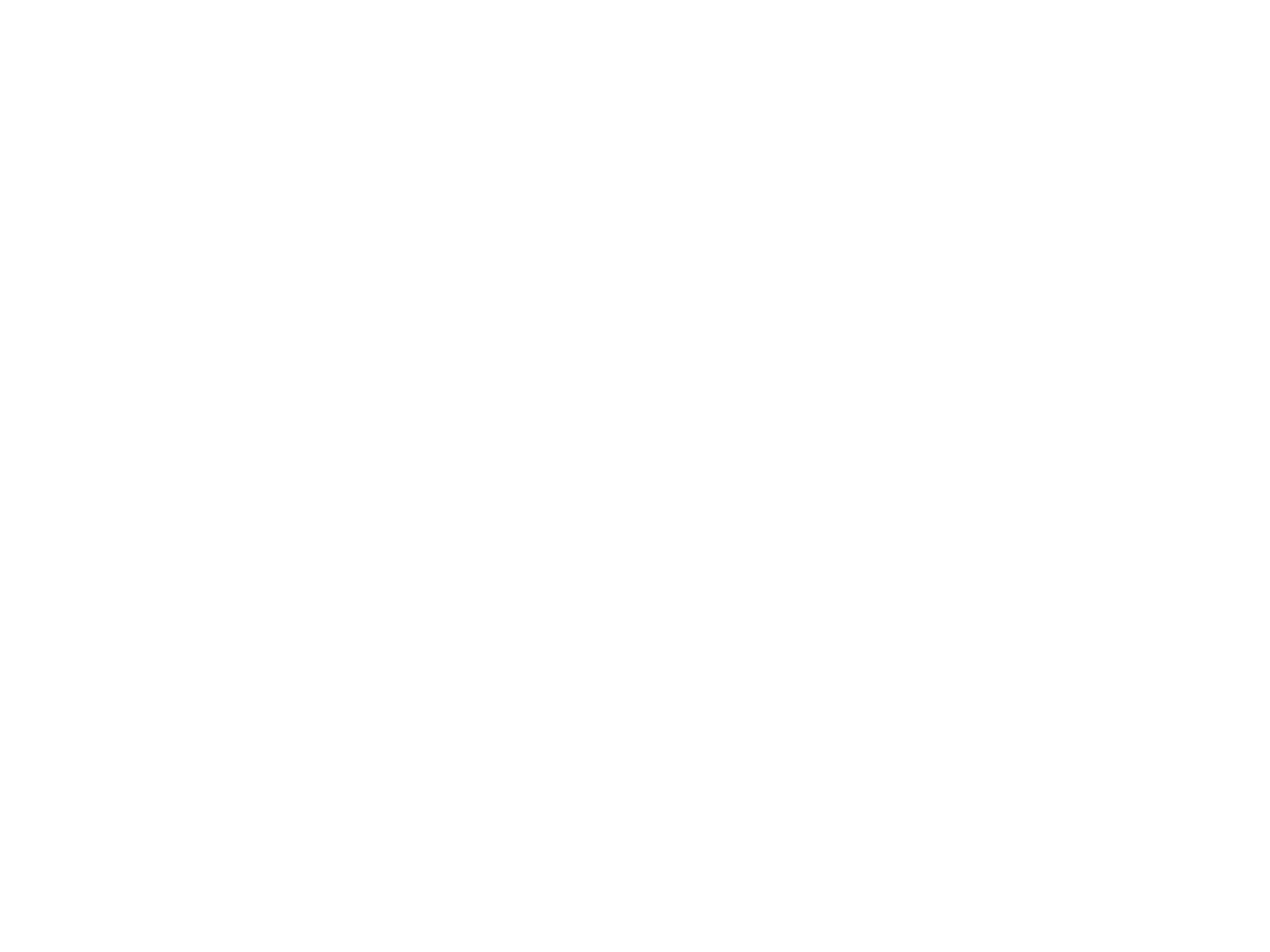9 декабря 1861 года. Отец его, Василий Макарович вышел из крестьян и стал учителем. Матушка, Екатерина Дмитриевна –
из небогатого купеческого рода. В их семье было 11 детей, из которых Василий был вторым.
В 1871 г. его отдали в местную гимназию. Но в 1878 г. семья распалась.
Мать переехала в Омск, а сын остался в Перми оканчивать гимназию. Шестнадцатилетний юноша два последних гимназических года жил на собственные заработки уроками.
В большой семье невольно приходилось рано становится самостоятельным. Биографы рассказывают:
«Очень любил природу и дальние прогулки – уходил верст на двадцать-тридцать от города и по три-четыре дня не возвращался домой. У мальчика была лодка, которой он научился управлять даже при сильном волнении»
Бабушкин дворик
Московский дворик
скорее его тянула к себе Москва. К счастью, вступительные экзамены были сданы успешно, и Василий стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. С первого курса работал сверх учебной программы в лабораториях крупных университетских ученых: 1 курс – с зоологом А.П. Богдановым, 2-3 курс – с химиком В.В. Маркониковым, 4 курс - с физиологом растений, дарвинистом К.А. Тимирязевым. В Москве студенческие годы прошли в снимаемом флигеле патриархального дома-усадьбы в Трубниковском переулке.

публикуется как научная статья и открывает солидный библиографический список будущего ученого.
Выпускник остается при кафедре Тимирязева в Московском университете и преподает в нескольких училищах и на курсах. В 1890 году защищает магистерскую диссертацию «Образование углеводов в листьях и передвижение их по растению» и становится доцентом. Для расширения исследовательского контекста отправляется в Германию изучать растительность Альп. «В 1892 году самостоятельно отправился к высокому пункту Церматт, откуда пешком через ледники и снега перевала Теодул близ Маттерхорна перебрался в северную Италию» - пишут дочери Сапожникова.
Здесь и произошел первый гляциологических опыт будущего сибирского альпиниста.
С 1 мая 1893 года В. В. Сапожников – сотрудник первого в Сибири Императорского Томского университета. Он начал действовать только 22 июля 1888 года в составе единственного факультета — медицинского. Будущим врачам требовались серьезные ботанические знания. Более половина лекарств были растительного происхождения и росли на аптечных огородах. Перевод на должность экстраординарного профессора ботаники стал для Сапожникова неожиданностью, и не слишком приятной. Отправляясь в 1893 году на новое место работы, он планировал через три-четыре года вернуться назад. Но по приезду возглавив кафедру ботаники, Сапожников оставался ее заведующим на протяжении 30 лет. С переездом в Сибирь профессор резко меняет направление своей исследовательской работы. Вместо биохимии и физиологии растений он предпочел заниматься общей и ботанической географией и гляциологией.
Одной из причин этого явилось отсутствие условий для работы по биохимии растений.
Эти исследования начинаются в 1895 году с первой экспедицией на Алтай. Из Томска в Барнаул В.В. Сапожников прибыл пароходом, а до Бийска добирался колесным транспортом на лошадях. Далее проследовал до села Улала, а затем до Телецкого озера, которое было преодолено на лодке в течение четырех дней с остановками на ночлег и экскурсиями по окрестностям. Добравшись до южной оконечности озера, разбили лагерь в устье реки Чулышман. В.В. Сапожников принял решение подняться на гору Алтын-Ту. Проводником был старик Игнатий, который пятнадцать лет ранее вел по этому маршруту Н.М. Ядринцева.

40 С, а совершенно ясное небо обещало, что будет еще холоднее: ведь мы находились на высоте около 1 500 м над морем.
Сгустилась темная ночь; лес, надвигающийся на поляну с трех сторон, потерял контуры и слился в одну сплошную черную стену; по луговине временами пробегают светлые полосы от нашего костра, над которым иногда вьются ночные бабочки, прилетающие из мрака и вновь исчезающие неведомо куда. Тишина полная, только Ачелман шумит там, за низкими зарослями талов, да калмык Игнатий, направив бронзовое морщинистое неподвижное лицо к костру и не выпуская изо рта деревянной трубки, рассказывает толмачу, что вот уже три месяца не может отыскать сына, который весной ушел в тайгу. Был в улусе какой-то праздник, кажется, свадьба –гости, выпивши араки, поспорили, спор перешел в драку, в которой его сыну проломили голову. Ничего, отлежался, только как встал, захватил ружье и ушел в тайгу. Раз ночью Игнатий набрел на него в лесу, тот бежать, Игнатий за ним, да в темноте напоролся глазом на острый сучок и проколол веко, а сын успел скрыться.
Старик выколотил трубку, бросил в костер охапку хвороста, завернулся в халат и, выставив к огню голые ноги, заснул. Только Ачелман издалека шумел, да отдохнувшие лошади усердно жевали траву.
С восходом солнца вскочили и мы. Умывшись в Ачелмане водой, от которой ломило руки и жгло лицо (4,50 С), напившись чаю и оседлав лошадей, мы двинулись дальше вдоль Ачелмана. Поляна, обильно покрытая росой, пестрела разнообразными красками; прежде всего, бросался в глаза ярко-оранжевый огонек, там и сям мелькали пунцовые пионы, желтый и красный мытник, а росник образовал местами густые дерновины. Налево отдельные группы кедров и лиственниц с зарослями кустарников сбегали к Ачелману, направо тянулся лиственничный лес с отдельными кедрами и черными обгоревшими стволами кедров, которые резко выделялись на ярко-зеленом фоне лиственниц. Мне не раз и потом случалось видеть такие пожарища, где огонь палил по выбору только одни кедры, не трогая лиственниц и лишь оставляя черные следы на основаниях (их) стволов. Я думаю, это объясняется большой смолистостью кедровой хвои».
«По Алтаю»: «На другой день, после экскурсии по берегам озера, мы начали грузить багаж в приготовленную для нас дощатую лодку, в которой нужно было проплыть до южного конца озера, т. е. не менее 75 верст, а может быть, и выдержать волнения, которые не редки на озере и, говорят, довольно опасны при господствующей здесь ужасной путанице ветров. Лишь только багаж был уложен, лодка потекла по всем швам, и нам пришлось заняться ее ремонтом, или, попросту заткнуть дыры тряпками и паклей. Это, однако, помогло немного, и вода продолжала накопляться на дне лодки. Чтобы не терять времени я решил отправляться, превратив одного из гребцов-калмыков в постоянно действующую помпу с ковшом в руке, а сам встав на руль. Всего нас в лодке было девять человек, считая толмача и пять калмыков, да около 25 пудов багажа».

Внутренность юрты оказалась чисто прибранной, и различные вещи распределены в определенном порядке. По середине юрты сделан помост на четырех кольях наподобие высокого стола; на нем положены темно-синее женское платье, шуба, седло; на углу висела сумка с хозяйственной утварью (котелок, ложка, кусок курдюка и пр.); сзади за помостом висела вторая сумка. Направо от входа разостлана кочма, а на левой стороне навешано довольно много хорьковых шкурок и с ними какие-то синие вязаные полоски наподобие чулок41. Рядом с помостом немного дров, а по левую руку от него высокий вьючный ящик из тонкого дерева и большая деревянная чашка, на том и другом в стоячем положении укреплены два жертвенных бубна. В ящике оказалась короткая шуба с погремушками и сплошной длинной бахромой из разноцветных шнурков – костюм для камлания; между шнурками два изображения змей; тут же лежали два головных убора с перьями и мелкими ракушками и маленький кожаный мешочек с двумя камушками (один – кристалл горного хрусталя). Рядом с ящиком пара сапог. Таким образом родственники позаботились, чтоб покойница была прилично обставлена в будущей жизни. Но где же однако сама покойница? Не вскрытым оставался только небольшой ящик, положенный на помосте и закрытый платьем и шубой; открыли и его, и здесь нашли покойницу, или, вернее, кучу костей, сложенных в беспорядке. Все кости носили на себе следы огня; кости рук и ног почти совершенно сожжены и отчасти рассыпаются, но грудная клетка вместе с черепом истлела мало и отдельные кости еще были скреплены связками. Калмык объяснил нам, что сожжение совершается в два приема, и весной совершено только первое неполное, а окончательное должно быть через полгода после первого43. Не желая терять единственного в своем роде случая, я решил кое-чем воспользоваться и взял с собой костюм для камлания вместе с головными уборами и оба бубна. Бубны были так велики, что не помещались во вьючную суму, и их пришлось везти сверху вьюка; один из них потом потерпел аварию, так как лошадь, испугавшись побрякушек, сбила вьюк и разбила бубен. Упелевший бубен вместе с костюмом и головными уборами передан мной в археологический музей Томского университета».
- Восточный поток ледника Геблера
- Чуйский тракт
- Водораздел Белухи. Игра в снежки
- Белый бом
- Большой талдуринский ледник
- Берельский ледник
- Гора Ольга
- Ледник Актру
- Долина Чулышмана
- Катанда Террасы на Катуни

«Уже первое путешествие, в котором я осязательно столкнулся с природой Алтая, выявило главное,
к чему я должен был стремиться. Пройдя в 1895 г. от Телецкого озера до истока Катуни и долины Бухтармы, я воочию убедился, насколько неполно наше знакомство с Алтаем, и тогда же наметил главные области своих будущих работ» - В.В. Сапожников. Итогом алтайских и монгольских экспедиций стали научные прорывы. Одним из его открытий является описание верхней границы леса, которая в наших горах начинается на высоте 2000 – 2400 метров над уровнем моря. Подробно описаны хвойные виды, которые формируют эту границу – на Алтае это кедр и лиственница. А самая верхняя черта распространения растительности – 3000 метров, но и здесь может встречаться редкое явление «красный снег». Собрав и проанализировав эту субстанцию, ученый обнаружил водоросль ярко красного цвета и установил ее идентичность с европейским аналогом Sphaerellf nivalis. До Сапожникова эту водоросль находили только в Арктике и Альпах. Итогом этих штудий стал фундаментальная корреляция верхней границы леса с географической широтой и абсолютной высотой: «уменьшение широты на 1 градус соответствует повышению линии леса на 100 метров». Сапожников состоял респондентом Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге: отсылал туда новые виды растений и образцы семян. Именно в то время было положено начало титаническому труду по собиранию огромной коллекции образцов растений Евразии, которая сосредотачивалась в российской столице. Эта коллекция существует до сих пор и находится, включая находки Василия Сапожникова, в Ботаническом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге. А собранные им семена растений хранятся во Всероссийском институте растениеводства, в хранилище генофонда биологического разнообразия мировых растений, сберегаемого для следующих поколений.
Восточный берег Телецкого озера
Василий Васильевич Сапожников






чистые культуры дрожжей, который позволили делать вино из рябины, голубики, облепихи и смородины.
Ботаник собирает растения, укладывает между листами бумаги, чтобы привезти гербарий в лабораторию.
Но мало, кто так художественного и вдохновенно рассказывает о своих экземплярах: «…недалеко от седла я увидел выдающуюся скалистую площадку, как бы вправленную в снежную раму и покрытую целым ковром ярких альпийских цветов… Бокалы генцианы, розовые колоски горлянки, колокольцы водосбора, низкорослая вероника (V. densiflora), красный мытник, синий змееголовик, желтый лютик и альпийский мак, нарядная фиалка и скромная; вершковая ива праздновали лето среди зимы, раскинувшейся на сотни сажен вокруг. Удивительно впечатление этого сказочного контраста, и нелегко оторваться от поражающей картины десятка хрупких жизней, заброшенных на бесплодные скалы среди снежных полей» («Походы по Русскому Алтаю»).
2.В.В.Сапожников на леднике Радзевича.
За ним Аккемская стена
3.Камлание
4.Козероги
5.Ледник Малый Актру
6.Ледник Менсу. Женщина -
Нина Сапожникова
7.Малая Талдура
8.Менсу
9.Мост через реку Мульта
10.Река Ануй
В Русском Алтае В.В. Сапожников открыл три ледниковых центра, которые включали ряд крупных ледников, определил высоту горы Белуха, а также других вершин Катунских и Чуйских хребтов, первым взошел на седло Белухи. Он впервые обнаружил на Алтае не только признаки достаточно мощного современного оледенения, но и еще более мощного древнего.
Фотограф-краевед и хранитель визуального наследия Сапожникова Альфред Позняков описывал сложный процесс фотографирования на рубеже веков: «Что значило сделать снимок в это время? Не просто «скинуть» куда-то электронный файл, или «загнать» в цифру старое изображение, или смотать и бросить в карман кассету с пленкой в 36 кадров. Привезти фотографии из экспедиции сто лет назад означало везти с собой тяжелые и объемные коробки с дорогими фотопластинами, брать лишний вес, жертвуя местом для одежды, продуктов, научных инструментов. Каждую пластину в полевых условиях, не в лаборатории, а на ветру и под лучами солнца, нужно было индивидуально зарядить в фотокамеру, отснять, после чего аккуратно без засветки, вынуть, герметично упаковать, при том избегать попадания прямых солнечных лучей и бережно хранить весь дальнейший путь, несмотря на обстоятельства. А если лошадь споткнется на перевале, завалится набок, придавит своим весом вьюк, а если баул упадет в воду на переправе, а если плот захлестнет волной, или брезентовая палатка протечет от трехдневного беспрерывного ливня?».
Из этого бесценного фонда в XXIвеке сохранилось не более 1000 снимков. Сегодня они помогают описать динамику вековой деградации ледников, этнографические особенности коренных жителей и многое другое.

…Сапожников занимает активную гражданскую позицию в самых сложных делах и, пользуясь своим авторитетом, неоднократно спасает своих студентов от грустной доли. Он рисковал ходатайствовать в охранные органы о смягчении наказания, и в ряде случаев его вмешательство сыграло свою роль: некоторые студенты были переведены из якутской ссылки в культурные центры вроде Иркутска. Уже после Октябрьской революции в архивах Томского жандармского отделения была найдена копия анонимной характеристики на Сапожникова, в которой выделялись подчеркнутые красным карандашом слова: «пользуется громадным влиянием среди молодежи, очень осторожен и очень вреден».
Однако ректорство Василия Сапожникова было отмечено не только участием в противостоянии общества с властью, но и работой по развитию университета, его превращению в ведущий вуз Сибири. В 1907 году он направляет запрос в Министерство народного просвещения с ходатайством об открытии в университете двух новых факультетов — физико-математического и историко-филологического. Прошение не было надуманным: ведущие умы сибирской интеллигенции полагали, что Томский университет своей главной задачей должен видеть изучение природы Сибири и ожидали, что он займет в этом направлении передовое место. Позицию областников, как обычно, выразил Потанин: «профессор медицинского и юридического факультетов может всю жизнь читать свои лекции и ни разу не заикнуться со своей кафедры о Сибири. Он может много трудиться над своей наукой, и все это не нуждается в материале наблюдений над местной природой, местной жизнью. При Томском университете нет естественного факультета, а только такой факультет может придать высшей школе значение местного областного университета».
Поэтому университету был нужен именно физико-математический факультет, он должен был закрыть нишу в преподавании естественных наук. Однако его открытие не состоялось. Отказ Министерства определялся глубокой причиной политического характера, не выраженной, однако, явным образом: царское ведомство не желало увеличения числа студентов в Сибири и роста протестных настроений против режима. Запрос на открытие двух новых факультетов направлялся из Томского университета в Министерство народного просвещения 10 раз, и все 10 раз он отклонялся.
Цели удалось добиться только в 1917 году, уже после Февральской революции, когда министром народного просвещения Временного правительства стал известный русский востоковед Сергей Ольденбург, а его товарищем академик Владимир Вернадский. Будучи глубоко просвещенными людьми, они сделали все от них возможное в правительстве, чтобы открытие факультетов состоялось.

Не менее 20 лет Сапожников состоял бессменным председателем общества помощи студентам: сотни студентов были обязаны ему окончанием курсов университета. Обучение в высшей школе до революции, как и в наше время, было платным и поэтому ежегодно, как только наступал крайний срок внесения платы за обучение, сотни неимущих студентов попадали под отчисление. Василий Сапожников читал публичные лекции — и собирал необходимые средства».
…С открытием сибирской железной дороги он практически ежегодно бывал в Москве и Санкт-Петербурге, где делал доклады на заседаниях Географического общества и других научных обществ и комиссий, посещал различные профессиональные съезды. Сапожников первым в России начал сопровождать свои лекции и отчеты демонстрацией диапозитивов из экспедиций, чем неизменно вызывал оживленную реакцию аудитории».
В. В. Сапожников не нашел себе места в бурные времена гражданской войны. Он придерживался либеральных взглядов, был членом кадетской партии. Будучи ректором университета, в 1917 г. лояльно относился к бунтующим студентам. Сохранилась записка Томского жандармского отделения: «Пользуется громадным влиянием среди молодежи. Очень осторожен и очень вреден». В июне 1918 г. с поста ректора был приглашен заведовать отделом народного образования в Западно-Сибирском комиссариате. С 1 июля он являлся управляющим, а с 4 ноября 1918 г. по 5 мая 1919 г. – министром народного просвещения Временного Всероссийского правительства. В. В. Сапожников содействовал открытию Иркутского университета и учреждению Института исследования Сибири (Сибирская Академия) в Томске. В начале мая 1919 г. он вернулся к научной и учебной деятельности в Томском университете.
В.В.Сапожников с проводником И.Мотаем
на седле Белухи

Начатое отцом дело продолжила дочь путешественника и ученого Татьяна Васильевна. Она дважды посетила Алтай и Тянь-Шань в 1925-1926 гг., систематизировала труды своего отца, участвовала в подготовке к переизданию его книг.
Именем В. В. Сапожникова названы самый длинный ледник Алтая в истоках реки Менсу (Иедыгем), вершина близ Белухи, небольшой ледник в Монгольском Алтае.
Даниил Безденежных